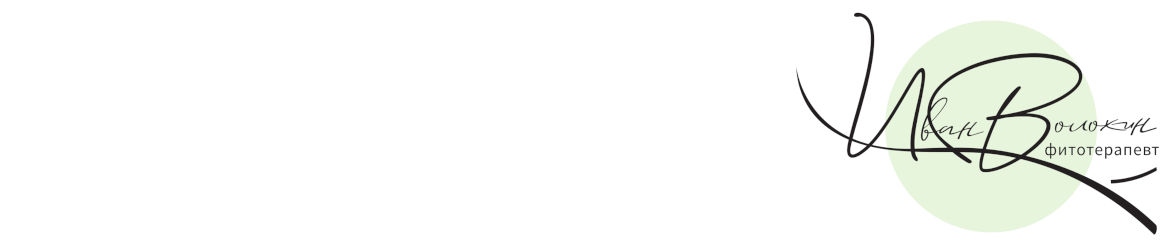Дело двух минувших суток.
К северу от Москвы, в Тверской области, на заболоченных землях рукава Волги, в окружении непроходимых лесов да непаханых полей, раскинула свои считанные домишки деревенька Харлово. Единственная дорога — две изъезженные колеечки — проходит сквозь неё, упираясь в поле, поросшее разнотравьем, а дальше — лес и болото с трёх сторон.
Просто так в Харлово не заезжают. Навигатор нарочно не проложит туда путь, не укажет и житель соседнего села, небрежно махнув рукой: «Езжай прямо, потом через Харлово, а дальше упрешься…» — куда? В никуда. Поэтому чужаков там не боятся, ни калитки, ни двери не запирая. Отпирать-то некому. «Да даже если вор какой-то оголтелый до нас доедет, — смеется местная жительница, — так ему ещё обратно выехать надо! А это — ой, как непросто. Далеко не уйдёт. Последний пьяница из крайнего дома давно помер, а больше — нет, некому!»
Так вот, в ту деревеньку мы въехали двадцать пятого мая в начале восьмого утра. Я — третий раз, Виктория Сергеевна — второй, а Марина Михайловна — в бесчисленный, у неё там дом.
Божья благодать, явленная в лекарственных растениях, неохватным многообразием раскинулась то там, то сям — куда ни глянь. Выйдешь за калитку, — а под ногами: девясил пышно лопушится, и одуванчик от него не отстаёт, и хвощик полевой — малёхонький такой — к небу тянется, и зверобойчик подрастает (за ним мы приедем позже, в июле), и яснотка уже виднеется, и много ещё чего, а если к болоту пройтись, то там сабельник соседствует с аиром, нам они интересны будут по осени.
Нынче же мы приехали за чистотелом, время для сбора которого как раз подошло. Если вы увидите, что по низу он ещё цветёт, а по верху — уже стручки, то сразу хвать его — и в сушку, недели на две. Пусть подвяливается. Потом в банку его, битком, и сорокоградусным спиртом на две недели залить. Настойка выйдет насыщенная, богатая — это я вам обещаю. Весь фокус — в естественной ферментации. Пять лет простоять такая настойка может (если в стекле и темном месте припрятать) — и ничего с ней не сделается. А пользы от неё — тьма.
 Так вот, пока Марина Михайловна, растворившись в хозяйских делах, шуршала то в доме, то на огороде, мы решили с Викой пройтись. Опьяненные свежим воздухом, бессонной ночью (а будильник полифонически взревел в три двадцать утра; выехали специально рано, чтобы избежать удушливых пробок), долгой дорогой в двести пятьдесят километров, — мы шли, разминая утомленные наши тушки, искренне удивляясь: откуда ещё берутся силы ногами землю перебирать? А жизнь вокруг — на зеленом ковре под переменчивым небом — казалось не меньше, чем совершенством. И счастью нашему не было предела.
Так вот, пока Марина Михайловна, растворившись в хозяйских делах, шуршала то в доме, то на огороде, мы решили с Викой пройтись. Опьяненные свежим воздухом, бессонной ночью (а будильник полифонически взревел в три двадцать утра; выехали специально рано, чтобы избежать удушливых пробок), долгой дорогой в двести пятьдесят километров, — мы шли, разминая утомленные наши тушки, искренне удивляясь: откуда ещё берутся силы ногами землю перебирать? А жизнь вокруг — на зеленом ковре под переменчивым небом — казалось не меньше, чем совершенством. И счастью нашему не было предела.
В одиннадцатом часу сошла роса и мы, одевшись в дачное, отправились неезжеными лесными тропами на тайные поляны, где разросся, перемежаясь с крапивой, чистотел. Нас кусали комары, жалила крапива, мошкара залезала везде, где находила возможность, — но за два часа свои тридцать килограмм чистотела мы-таки собрали. Три тюка, перевязанные простынями, следовало срочно — пока не запрели — вести домой, на третий этаж, в сушку под раскаленной крышей, раскладывать тонким слоем на металлической сетке.
К двум часам дня, когда основные дела были закончены, мы уселись обедать. И выпивать лёгкое розовое вино французской провинции Лангедок, закусывая его варёной молодой картошечкой (вполне себе русской), овощным салатиком на деревенской сметане и свежайшим шашлычком из индейки, только-только снятым с огня.
 Казалось, что работать уже нельзя. Но у Марины Михайловны на этот счёт было своё мнение: в огороде пустовал клочок земли, вспаханный ровно под то количество проросшей картошки, которая лежала в подвале, дожидаясь своего часа. Выросший на Урале среди картофельных полей, участвовать я отказался сразу. Наотрез. Безоговорочно. А вот Виктория Сергеевна, ведомая деревенской романтикой, вызвалась на картошку, о чём скоро пожалела, вспарывая лопатой землю. Мне же вытащили новомодный шезлонг, усадили в него и велели читать — выразительно, громко, вслух — рассказы Дины Ильиничны Рубиной о причудах израильской жизни. И я читал. И мне было не стыдно.
Казалось, что работать уже нельзя. Но у Марины Михайловны на этот счёт было своё мнение: в огороде пустовал клочок земли, вспаханный ровно под то количество проросшей картошки, которая лежала в подвале, дожидаясь своего часа. Выросший на Урале среди картофельных полей, участвовать я отказался сразу. Наотрез. Безоговорочно. А вот Виктория Сергеевна, ведомая деревенской романтикой, вызвалась на картошку, о чём скоро пожалела, вспарывая лопатой землю. Мне же вытащили новомодный шезлонг, усадили в него и велели читать — выразительно, громко, вслух — рассказы Дины Ильиничны Рубиной о причудах израильской жизни. И я читал. И мне было не стыдно.
А потом вечерело. Баня, топившаяся на дровах, медленно набирала температуру. Дожидаясь её, мы гуляли по полю рядом с домом, слушая неустанное пение птиц из леса (не притомились они за день, что ли). И даже кромешная летняя тьма не лишила их настроения залихватски вычирикивать свои трели. Поэтому засыпал я под сопровождение лесного ансамбля. И спал крепким, глубоким, заслуженным сном. И снов не видел.
Ещё до того, как утром следующего дня по дому поплыл запах блинов, замешанных на яйцах, взятых прямо из под курицы, да на молоке вчерашнего удоя, — я уже успел принять душ, размяться, потянуться и сделать цигун, жадно — но без спешки — вдыхая прохладу чистого деревенского воздуха. И каждая жилка в теле радовалась редкому моменту.
А потом надо было уезжать. Пораньше, наперегонки с пробками, успевая проехать быстрее дачников, которые, очухавшись от воскресного пересыпа часам к одиннадцати, дружно рванут в город. И тогда — хана, — вместо трёх часов придется ехать все пять, а то и дольше.
Через три недели нам предстоит вернуться и, забив банки уже подвяленным чистотелом, — поставить их настаиваться, завершив дело двух минувших суток.
А просто так в Харлово — не заезжают, говорю же.