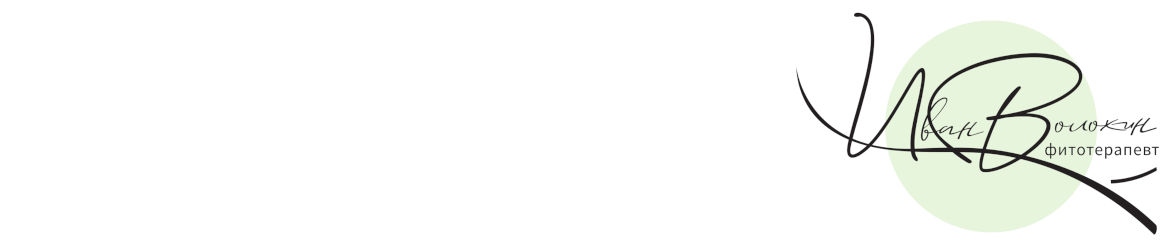На Забайкалье нынче беда: непогода. Местами в горах ещё лежит снег, холодные ветра рвут на людях куртки, дождь хлещет наискосок. Синоптики мечутся в прогнозах, предсказывая в один день то грозу и шторм, то безоблачное небо и резкое потепление. Местные нервничают: «В Бурятии, вон, жара под сорок, а у нас!» — горько сплёвывая себе под ноги. Белая пенка слюны тут же уносится дождевым ручьём.
На Забайкалье нынче беда: непогода. Местами в горах ещё лежит снег, холодные ветра рвут на людях куртки, дождь хлещет наискосок. Синоптики мечутся в прогнозах, предсказывая в один день то грозу и шторм, то безоблачное небо и резкое потепление. Местные нервничают: «В Бурятии, вон, жара под сорок, а у нас!» — горько сплёвывая себе под ноги. Белая пенка слюны тут же уносится дождевым ручьём.
Зато растения подолгу стоят в буйном цвету, запаздывая недели на две. Езжай себе, экспедитурствуй. Я аж разволновался от такого количества личных знакомств. Нет, прежде я их знал и успешно применял лет семь- восемь, — но не видел их в дикой природе, добывая знания из книг да фотографий. Не налетаешься же раз за разом: шесть с половиной часов ночного рейса плюс дорога по грунтовым ухабам — корешки покопать, травку посмотреть, поскакать сайгаком по отлогим склонам сопок. Для этого есть специально обученный народ. У народа — спецодежда, покрытые непроходящими мозолями и чёрными трещинами руки, сноровка и — частая для этого края — похмельная голова. Поэтому оплачивается труд народа исключительно по факту, а то получат аванс — и нет тебе ни сырья, ни сборщика. Напившись, тут честно не выходят на работу. Затем бесстыдно врут, ссылаясь на третье за две недели отравление грибами, на четвертые за месяц похороны сестры, или брата, или жены, или свекрови, или даже родной матери, которая не против, лишь бы с работы детину не погнали. Бывает, семьями работают. Иногда, целыми сёлами. Целыми сёлами в загул и уходят.
Ну, да не о том речь.
Обрадовавшись первому узнаванию, ободрал пальцы о тонкий, но кусачий стебель Элеутерококка. Колючим его прозвали не зря, с прямым указанием, что без прорезиненных перчаток — не подступишься. Любят элеутерококк тут не шибко, трепетно почитая мужицкий корень, обозначенный ботаниками левзеей сафлоровидной. «Я пока его не пью, — рассказывает мой провожатый, — сам как-то справляюсь. А мужики говорят, хорошо, ежели там чего разладится!» — и глазами так ниже пояса себе смотрит, словно я другое заподозрить мог. С теми же успехами попивают золотой корень, мне известный под именем родиолы розовой. «У нас же как, — продолжает сопровождающий, — если корневище у растения ого-го, то он и твоему корешонку поможет!» — и смеется, аж заходится. «А корень пиона? — подкалываю я.» — «Не, — говорит, — машкин корень бабам хорош, когда психують. А нам от него — всё наоборот делается».
 Курильский чай оказался стелющимся кустарником, цветущим едкими желтыми цветами, похожими на лютик. Словно среди благородных трав затесалась бестолковая куриная слепота. Валериана лекарственная, пустив долговязый стебель, набухла зонтиком розовых бутонов — и ждёт солнечного дня. Мясистая копия привычного укропа оказалась вздутоплодником сибирским. А вот плотный мелколистный ковёр душистых лиловых цветков мною легко был опознан как чабрец ползучий. От крымского он ничем не отличается. «Запах чабреца из детства, из деревни, — рассказывает местный житель. — Приедешь в деревню, если чабрецом потянуло, значит, покойник есть». Я вскидываю брови, ассоциируя до этих пор аптечный запах чабреца разве что с простудой. «Да, — кивает. — никаких других средств не было, запах перебить. А три дня держали. Жара же! О, гляди, какие луки, будешь?» — легко сбросив щекотливую тему, устремляется вниз по покатому склону сопки.
Курильский чай оказался стелющимся кустарником, цветущим едкими желтыми цветами, похожими на лютик. Словно среди благородных трав затесалась бестолковая куриная слепота. Валериана лекарственная, пустив долговязый стебель, набухла зонтиком розовых бутонов — и ждёт солнечного дня. Мясистая копия привычного укропа оказалась вздутоплодником сибирским. А вот плотный мелколистный ковёр душистых лиловых цветков мною легко был опознан как чабрец ползучий. От крымского он ничем не отличается. «Запах чабреца из детства, из деревни, — рассказывает местный житель. — Приедешь в деревню, если чабрецом потянуло, значит, покойник есть». Я вскидываю брови, ассоциируя до этих пор аптечный запах чабреца разве что с простудой. «Да, — кивает. — никаких других средств не было, запах перебить. А три дня держали. Жара же! О, гляди, какие луки, будешь?» — легко сбросив щекотливую тему, устремляется вниз по покатому склону сопки.
Уже спустившись в город, у обочины дороги нашёл астрагал перепончатый. Опознал его случайно, по навязчивому сходству с бобовыми — больно уж он на вику похож. Стоит, заметенный шелухой вязового семени, среди окурков и мусора. Ценнейшее средство для гипертоников, между прочим. От цветков до корневища — весь применяется. А кто его тут знает? — единицы.
Словом, очень богат лекарственными растениями забайкальский край. Только непогода вот. Но это временное обстоятельство.